Ален Безансон Еврейская память о нацизме
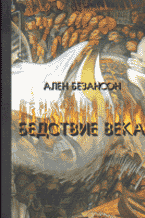 Из книги "Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность Катастрофы."
Затрагивая эту тему, на мой взгляд, следует подчеркнуть нечто, на
что редко обращают внимание. Известно, что с тех пор, как еврейский
народ, обретя равноправие в конце XVIII века, вернулся в общую
историю Запада, он (или по крайней мере некоторые его члены)
принимал участие во всех добрых или злых делах, затеянных народами,
с которыми он смешался. Евреев встречаешь в успешной или
бедственной истории философской и общественной мысли, политической,
социальной и экономической жизни. За исключением, разумеется,
нацизма. В этом деле, столь исключительно устремленном к злу (в
нашем веке сравниться с ним в этом может только коммунизм), евреи —
жертвы, а не виновники. Библейские пророки сочли бы это великой
милостью, ибо они учили, что такому страшному греху следует
предпочесть смерть. Евреи были избавлены от соблазна, в который
люди из числа "народов" впали во множестве. С этой точки зрения,
они справедливо чувствуют себя невинными и непричастными.
Еврейскую память о нацизме обостряют два сопутствующих фактора.
Нацизм, изначально провозглашавший себя врагом демократии - в то
время как коммунизм изображал себя ее вершиной, — в силу этого стал
тем отрицательным полюсом, по отношению к которому самоопределяется
всемирное движение за демократию, ускоренно развивающееся, начиная
с 1945 года. Более того, поскольку нацизм был зачислен в крайне
правые движения — левые по контрасту являли себя его
противоположностью. Во Франции, где во время оккупации были и
компромиссы, и соучастие, где после капитуляции был установлен
фашиствующий режим, левые заинтересованы в захвате монополии на
"антифашизм", отождествленный, согласно коммунистическому
"писанию", с антинацизмом. И, значит, они заинтересованы в том,
чтобы заполучить на свою сторону еврейское общественное мнение,
набивая цену памяти о нацизме, в результате чего евреи попадают
скорее в сферу интересов левых, чем в ту, где лежат интересы
еврейской общины.
Еврейскую память по праву беспокоят идейные течения непосредственно
оскорбляющие ее. "Негативизм" [отрицание Катастрофы] — крайний тип
таких течений. Он настолько выходит за всякие рамки истины и
историческою здравого смысла, что ею поддерживают лишь несколько
отдельных личностей, не имеющих ни малейшего интеллектуального
авторитета. Неприятно, что во Франции это течение запрещено
законом, принятым к тому же под покровительством коммунистов.
Дискуссию не следует в законодательном порядке избавлять от вопроса
об истине. Иначе те, кто отрицает надежно удостоверенные факты,
могут жаловаться и даже похваляться, что их лишают свободы мысли, а
значит, избегать позора, на который свобода мысли их обрекает.
Банализация Катастрофы — другая причина горечи. В повседневной речи
слово "геноцид" приобрело расширительное значение, доходящее до
злоупотреблений. Его применяют к любым притеснениям, серьезным и
несерьезным, и скоро мы дождемся, что геноцидом назовут резню
морского котика или охоту на китов.
Люди уничтожают друг друга с тех пор, как стали достаточно
многочисленными, чтобы воевать. По античным законам войны, всех
взятых в плен мужчин, способных носить оружие, предавали смерти, а
женщин и детей отдавали в рабство. Согласно сегодняшнему
словоупотреблению, Троянская война или Пунические войны это геноцид. Еврипид в "Троянках", Фукидид, рассказывавший о
наказании мелийцев, описывали факты геноцида. Средневековый немецкий
"Дранг нах Остен" привел к исчезновению нескольких славянских и
балтийских народов, живших между Эльбой и Одером. В межплеменных
африканских войнах сегодня, когда современное оружие заменило дротики,
за несколько месяцев погибает миллион человек. Кто помнит о скифах,
сарматах, аварах, печенегах, хазарах — народах, некогда славных, а
ныне пропавших без следа?
Массовое убийство — еще не геноцид. В правовом словоупотреблении,
которое ратифицировано международной конвенцией, геноцид —
"методическое уничтожение этнической группы". Это определение
хромает: многие вышеупомянутые массовые убийства подходят под это
определение; с другой стороны, если усомниться в том, что евреи —
"этническая группа" (т.е. исходить из нацистской концепции), то
Катастрофа не войдет в эту категорию! Чтобы остаться в рамках
исторического здравого смысла и в границах XX века, я предлагаю
договориться о том, что геноцид в прямом смысле слова, в отличие от
обычного массового убийства, требует следующего критерия: нужно,
чтобы резня совершалась умышленно, а умысел возник в рамках
идеологии, имеющей целью уничтожить часть человечества во имя
торжества идеологической концепции добра. Замысел уничтожения
должен охватывать всю намеченную к уничтожению группу, даже если он
не доведен до конца из-за материальной невозможность или изменения
политики. Единственным известным прецедентом могла бы считаться
Вандея, которая, согласно приказам Конвента, должна была быть
"уничтожена" целиком. Карье писал: "Во имя человечества я очищаю
землю свободы от этих чудовищ". И действительно, зону уничтожения
очистили от населения на четверть, что близко к достижениям XX
века.
Применяя этот критерий, мы прежде всего выделим нацистское
истребление евреев и цыган, "чистый" геноцид; к нему следует
присоединить уничтожение инвалидов, от которых Гитлер избавился
накануне войны. Я присоединяю сюда также украинский геноцид
1932-1933 гг., который напоминает вандейский тем, что совершался,
когда крестьяне уже прекратили всякое сопротивление, и был прерван,
когда политическую цель сочли достигнутой. Прибавим также армянский
геноцид 1915 г. и камбоджийский. Все эти случаи геноцида были
заранее запланированы и держались в глубокой тайне. Тайна не
устояла: где — перед военным поражением, где — перед падением
виновного в геноциде режима. Однако, к примеру, тайна украинского
геноцида едва-едва раскрыта и даже сейчас далеко не полностью
документирована. Обычно считают, что тогда погибли5-6 миллионов
человек. Можно полагать, что были и другие случаи геноцида, о
которых мы не слышали ничего.
Армянский геноцид, хотя и совершенно несомненный, все-таки еще
напоминает "классическое" массовое убийство. Младотурки
намеревались превратить свою страну в государство-нацию по
якобинскому образцу и, чтобы осуществить ее единство, мобилизовали
башибузуков — по старому имперскому рецепту, уже испробованному
несколько раз, в частности в 1895 г. на тех же армянах. Этот рецепт
был унаследован от безжалостных правил древней войны. Японцы в
Китае делали то же самое. По украинский и еврейский геноциды
основаны исключительно па идеологическом замысле, и это их
объединяет. Целью первого было распространить и усовершенствовать
коммунистический контроль, ликвидируя тот потенциал сопротивления,
который представляло собой национальное чувство украинского народа
или просто само его существование. Как только цель была достигнута;
исчезла и необходимость (ради замысла в целом) и даже желание
"ликвидировать" остаток населения. Накануне смерти Сталин размышлял
о возможном повторении этой операции. Еврейский геноцид, основанный
на замысле воссоздания расовой чистоты, предполагал истребление
всех евреев без исключения. В этом он напоминал традиционные
массовые убийства, в особенности армянский геноцид, где трупы
женщин и детей нагромождались курганами, или, если брать недавнее
время, уничтожение тутси в Руанде, которое организовали хуту. Есть
в нем, однако, и отличие.
В самом деле, огромное большинство евреев — и не только евреев —
сознает непреодолимое различие между тем, что случилось с ними, и
тем, что пережили другие народы. Это неискоренимое, но неясное
сознание — источник непрестанно встающих вопросов, на которые нет
однозначных ответов.
Многие мыслители-евреи, и не из последних, начиная с Раймона Арона,
Бориса Суварина и Ханны Арендт, выносили беспристрастное суждение о
двух ужасах нашего века, окинув их невозмутимым взглядом. В
недавней, исполненной благородства статье Энн Эпплбаум"A dearth of
Freeling" (New Criterion, New York, vol. 115, №2, Oct. 1996)
заведомо отвергается мнение тех, кто считает, будто евреи,
эгоистически замкнувшиеся на своем горе, бесчувственны к чужим
несчастьям. Анни Крижель в одном из своих последних перед смертью
текстов стремилась напомнить, что в отношении сталинизма некоторым
евреям не стоит чересчур культивировать легенду о "фундаментальной
невинности жертв"(L'antisemitisme de Staline.// "Les nouveaux
Cahiers", №120, 1995, p.55).
Однако я не думаю, что у кого-то из вышеназванных дух
справедливости подавлял чувство отличия. Чтобы оно совсем
изгладилось, надо пройти до конца дорожку ассимиляции. Подобная
точка зрения идет рука об руку с усталостью от иудейства и с
желанием, пусть понятным, избавиться от неприятностей, связанных с
принадлежностью к нему. В контексте полного обмирщения
действительно трудно основывать эту принадлежность на чем бы то ни
было. Если не чувствуешь себя ни в коей мере связанным
многочисленными обязательствами, накладываемыми Торой, то зачем
навсегда оставаться запертым в ее "загоне"? Стоит ли претендовать
па принадлежность к нации, оставаясь бесчувственным к призыву
сионизма и зная, какие разрушения принес национализм за последние
два века? Однако если существует урок истории, услышанный в
положительном смысле, то он состоит в том, что еврейская
самобытность, даже когда ее легитимность больше не существует
де-юре, самыми удивительными путями продолжает существовать
де-факто. Ничто не могло изгладить эту печать, даже усилия тех, кто
хотел от нее избавиться. Хочешь не хочешь, а род человеческий
по-прежнему делится на евреев и гоев.
Второй взгляд на Катастрофу, к несчастью, довольно распространен,
особенно во Франции. Ей придают абсолютную уникальность, возмущенно
осуждая и считая надругательством любую попытку провести параллель
с другими историческими событиями. Но из этого определения
уникальности исключены метафизические или, точнее, религиозные
аспекты — в него входят лишь материальные обстоятельства: газовые
камеры, индустрия смерти, истребление детей, замысел уничтожения
целого народа. Эти обстоятельства действительно ни с чем не
сравнимы, и нацистское истребление создает уникальную картину. Но и
всякое другое историческое событие, рассматриваемое само по себе,
уникально и неповторимо. Если взять другие современные примеры
истребления, то мы увидим, что отдельные жуткие элементы еврейской
Катастрофы в них встречаются, а другие — нет, зато в них входят
некоторые элементы, которых в той не было. Уникальны все они, как
уникальна для каждой матери смерть ее ребенка. И у каждого
умирающего ребенка есть мать.
Главное нежелательное последствие такого подхода состоит в том, что
он создает ложное представление об иудействе: будто, вопреки Библии
и Талмуду, жизнь одного человека не равноценна жизни другого, а
одно преступление — не равносильно другому, аналогичному. Он
заставляет думать, что евреи пристрастны в своих суждениях и вносят
в историческое сознание своего рода "состязание жертв", в котором
все категории равны, но одна —"равнее" других. Разумеется, такой
подход способен вызвать раздражение среди народов, которые страдали
не меньше, хотя по-иному. Они могут от своего имени высказать
протест Шейлока: разве у нас не такие же, как у вас, чувства и
страсти, разве мы не истекаем кровью, когда нас ранят, разве мы не
умираем, когда нас убивают, разве мы не люди, как и вы?
Ваг к чему приходят, когда религиозный аспект отодвигают в сторону:
начинают думать, что существенное отличие евреев от всех остальных
основано на материальных элементах или нравственных качествах.
Избранность и привилегии оказываются там, где их нет, там, где их
нельзя признать законными, зато правда об избранности и привилегиях
остается в пренебрежении там, где она на месте — как дарованный и
действительно уникальный плод завета, который был заключен с Богом
и от которого, как всегда учил иудаизм, евреи полностью зависят.
Эта правомерность в принципе признана за пределами еврейского мира
— в мире христианском, который, несмотря на нередкие уклонения от
истины, всегда признавал предшествующий ему Ветхий завет
действующим и нормативным. Но если какое-то идейное течение желает
строить еврейское бытие за рамками тех особых отношений, которые
связывают их народ с Богом Авраама и Моисея, то какой смысл может
найти в Катастрофе нееврейский мир, когда то же самое течение
утверждает, что она не имеет никакого смысла и представляет собой
чистое отрицание? Извне она начинает напоминать странное повторение
христианства, но без смерти Невинного и невинных, за которую в
каком-то смысле ответственно все человечество и которая несет в
себе искупление и примирение. Ставить в центр сознания
отрицательный факт, самый отрицательный, какой только можно
вообразить, абсолютное зло, и не полагать конечной победы добра —
это значит угнездить в сознании разъедающую боль, неутешную и
мстительную по отношению ко всему миру, ибо — опять-таки по
аналогии со Христом— виновен весь мир.
Опасно также отходить от особого призвания Израиля — призвания
священства на службе остального человечества. В иудействе есть
традиция, согласно которой присутствие евреев среди народов
благословенно для народов. Что будет, если это присутствие станет
носителем вселенского обвинения?
Почему это течение стало особенно шумным именно во Франции, где оно
наверняка не так представительно, как само оно утверждает? Наполеон
дал евреям конфессиональный статус в рамках общего права и отказал
им в особом гражданском статусе. В той части французскогo
иудейства, которая оторвалась от религии, но в своей почти полной
ассимиляции и несомненном патриотизме сохранила инстинкт "отличия",
была очень сильна тенденция связывать это "отличие" со смертоносной
несправедливостью, носителем которой был нацизм, а жертвой — евреи,
и с нарушением своих нрав режимом Виши, отдавшим их на растерзание;
а затем концентрическими кругами, расширять обвинение в соучастии
до бесконечности.
Эту тенденцию укрепляет обмирщенная атмосфера французского
интеллектуального мира, который, утратив из виду богословие,
считает Библию и породивший ее народ элементом культуры — на тех же
основаниях, что греческую философию и римское право. "Еврейский
народ, — пишет Франсуа Фюре в письме к Эрнсту Нольте,— неотделим от
классической древности и от христианства (...). Мучая его,
стремясь его уничтожить, нацисты убивают европейскую цивилизацию"
(Commentaire, №80, 1997-1998, р.805). Это совершенно верно, но
недостаточно, даже с точки зрения обмирщенной истории. В конце
концов, европейская культура развивалась самостоятельно, опираясь
на исчезнувшую Грецию и павший Рим и отодвинув в сторону еврейский
народ, Священное Писание которого, как утверждалось, стало
исключительным наследием христианства. Однако весь вопрос в том,
какое значение имеет этот народ, долго отверженный, но тем не менее
находившийся рядом, затем "принятый", но "не способный
ассимилироваться", и какое значение имеет предпринятое на него
наступление. Культурологическими средствами тайну Израиля не
решить. Не более, кстати, чем тайну христианства. Блестящая
историография от Сент-Бева до Морраса через Ренана (который
рассматривал и иудейство, и христианство) апологетически излагает
цивилизаторский вклад христианства, считая при этом общепринятым,
что вопрос о его истинности окончательно решен отрицательно. Можно
задаваться вопросом, нет ли в замысле Морраса распространять
католичество без христианской веры своего рода бессознательной
параллели с этим бескровным иудейством, вдобавок разъедаемым
утратой своего стержня.
Прошлое на множестве примеров показывает, что христианское
антииудейство было тем более острым, чем более невежественными в
самых основаниях своей веры были те круги, из которых оно исходило.
Добрый Санчо Панса излагал свое исповедание веры u двух пунктах:
поклонение Пречистой Деве и ненависть к евреям. Но, когда вера
исчезла, антисемитизм расцвел пышным цветом, и вера, пусть даже
искаженная, перестала служить хоть каким-то тормозом. В довоенной
антисемитской литературе не встретишь хорошего еврея: самый
симпатичный, самый праведный поневоле песет в себе разрушительный
вирус, враждебный христианскому народу. Более того, вся европейская
история была перестроена вокруг всемирного еврейскою заговора. И
вот совсем недавно, в год процесса Мориса Папона, мы слышали
высказывания, которые позволяли думать, что вокруг де Голля
антисемитизм был таким же злобным, как вокруг Петена; что главная
ось истории Франции от св. Людовика до Зимнего велодрома [на Зимний
велодром согнали жертв крупнейшей парижской облавы времен
оккупации] — ненависть к евреям. Я только что прочел роман, смысл
которого, как мне кажется, состоит в том, что не может быть
"хорошего гоя", тем более хорошего христианина, так как, если его
немножко поскрести, обнаружишь антисемитскую ненависть и ростки
готовности поставлять живой товар в газовые камеры. Эти эмоции,
отлитые в вывернутую наизнанку форму вчерашнего антисемитизма,
исходят, по-моему, из кругов, подобных тем, которые его порождали,
причем с тем же незнанием не только чужой, но и своей собственной
религии, и с тем же националистическим ожесточением, подменяющим
религию, С риском, как остроумно написал Ален Финкелькро, разделить
общественное мнение на "натравленных и затравленных".
Я не хочу заходить слишком далеко, проводя параллель, которая
быстро могла бы стать несправедливой. Объективно говоря, евреи
бесконечно больше претерпели от гоев, чем наоборот.
Антихристианство евреев не столь несовместимо с иудейской верой,
как несовместимо с христианской верой антииудейство христиан,
немедленно порождающее внутреннее противоречие. К тому же подобную
позицию можно некоторым образом рассматривать как первый шаг к
возвращению в Сион после века обмирщения. Если, с одной стороны,
это порожденное страстью убеждение можно рассматривать как способ
уйти от истинного иудейства, оставаясь при этом евреем, то с другой
— он возвращает к одному из самых фундаментальных предписаний
иудейства: не покидать свою общину.
Государство Израиль было создано, чтобы быть общей родиной евреев —
сохранивших свою веру и избавившихся от нее, но равно желающих жить
в условиях свободы и безопасности. Прибывающих из Европы евреев,
безусловно, прежде всего объединяло то, что их всех хотели
истребить. Поэтому Катастрофа возводилась в принцип легитимности
как перед всеми народами, которые несли свою часть ответственности
за нее, так и перед евреями) отошедшими от Торы, для которых
библейская легитимность стала чисто внешним принципом. Но "религию
Катастрофы" невозможно примешать к библейской религии, она не может
ее подменить, не приводя к идолопоклонству и не обостряя неприязнь
между евреями и народами, не подчиняющимися ветхозаветному закону.
Третий подход состоит в том, чтобы ставить перед собой вопросы о
Катастрофе, углубляясь в отношения еврейского народа с Богом его
праотцов. Нельзя оставить в стороне основанную на вере
убежденность, что еврейский народ претерпел за дело Божие. Таковы
бремя и цена избранности со времен заключения завета. Перед лицом
нацизма, этого концентрированного идолопоклонства и кощунства,
еврейский народ боролся и свидетельствовал Его Именем. Однако
невозможно измерить, какой соблазн заключен в этом событии и
насколько трудно мыслить об этом богословски.
Еврейский народ существует только как партнер завета с Богом,
Который дал ему обетования: "Ибо часть Господа народ Его; Иаков
наследственный удел Его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной
и дикой; ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока
Своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими,
распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях
своих..."(Втор 32,9-11). В Библии два десятка аналогичных текстов.
И именно та часть народа, которая особенно пылко верила в эти
обетования: набожные общины Центральной и Восточной Европы, —
приняла на себя главную тяжесть Катастрофы. Меньше всего пострадала
сравнительно неверующая часть — та, которая перед войной, вопреки
мнению большинства раввинов, осмелилась задумать и осуществить
сионистскую утопию; и та, совсем неверующая часть, которая во время
войны успешно боролась против нацистской военной машины в рамках
самого фанатического коммунизма.
Иудаизм не знает той фамильярности со злом, того признания
постоянства и повторяемости зла, которые были внесены в
христианский мир догматом о первородном грехе. Этот догмат в его
форме, данной апостолом Павлом, не был принят израильскими
мудрецами. И так же не была принята диалектика греха и милости,
возможной победы зла и твердого чаяния победы добра. Еврейский
автор сирийского Откровения, известного как "Откровение Варуха",
все это прямо отвергает: "Адам провинился лишь сам но себе, и
каждый из нас стал Адамом своей собственной жизни" (цит. но:
Ephraiim Uhrbach. Les Sages d'lsrael. Paris, Cerf-Verdier, 1996,
p.440). Почему же тогда погибали праведники, причем погибали в
первую очередь?
В Катастрофе каждый погибал в одиночку, как отдельная личность. Мы
знаем, что перед лицом "молчания Бога" немало было тех, кто
молился, кто сохранил или даже обрел веру. Немало было и тех, кто
ее утратил. Богословские размышления о Катастрофе насыщенны и
многообразны. Одни раввины признают за ней коренное сходство с
другими бедствиями, которые обрушивались на Израиль с древних
времен. Другие предаются размышлениям о таинственных апориях Книги
Иова. Третьи предполагают таинственную связь Катастрофы с
восстановлением Израиля в Земле Обетованной. Эмиль Факенхейм,
похоже, склоняется к богословию "смерти Бога". Ганс Ионас, крупный
специалист по гнозису, предлагает неубедительный, кажется, и для
него самого гностический миф о бессилии Бога и Его уходе от дел
мира сего. Этим размышлениям не видно конца, они не обретают
взаимного согласия — посмотрим, как они будут развиваться дальше.
Вероятно, именно этот труд богословской разработки, каковы бы ни
были конечные выводы, сможет снять противоречия и трудности,
создаваемые первыми двумя подходами, и принести удовлетворение не
только философу или богослову, но и историку, забота которого — не
пренебречь ни одним фактом.
Пер. с французского Ярослава Горбаневского.
Из книги: Безансон, Ален. Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность
Катастрофы.
Москва-Париж, "МИК"–"Русская мысль", 2000, при поддержке фонда
Goodbooks (Guernsey)
|


